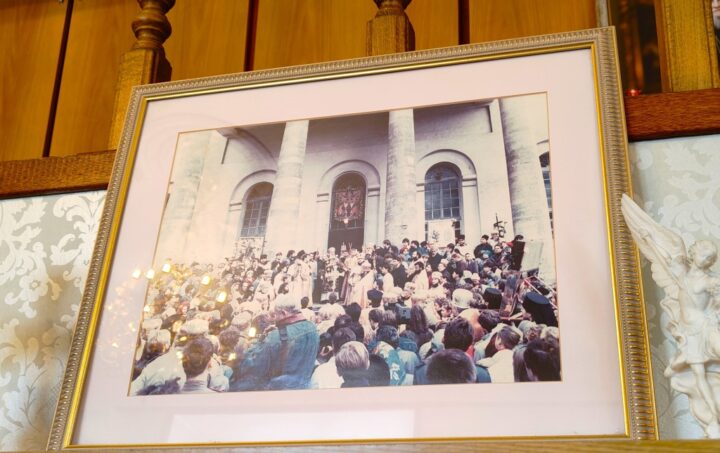Святитель Филарет, митрополит Московский, был младшим современником преподобного Серафима Саровского, при этом они никогда не встречались. Как общение с еще одним святым помогло митрополиту Филарету познакомиться с подвигом саровского подвижника, какое влияние на дальнейшую его жизнь оказали пример и поучения старца, как он стал исполнителем заветов преподобного?
Мы не располагаем сведениями, довелось ли святителю Филарету и преподобному Серафиму слышать друг о друге до судьбоносной встречи московского архипастыря с преподобным Антонием (Медведевым), наместником Троице-Сергиевой Лавры. Можно лишь предполагать, что саровский старец, с детства почитавший преподобного Сергия (вспомним, что родители святого устроили в Курске церковь во имя Сергия Радонежского – ту самую, со строящейся колокольни которого упал маленький Прохор, оставшись невредимым), был наслышан о Троицкой обители и ее знаменитом настоятеле.
Нельзя исключать и того, что вести о старце-затворнике из Саровской обители доходили и до Филарета, важной составляющей внутренней, монашеской жизни которого было общение с людьми высокой духовной жизни. Еще в Петербурге в 1820 году он свидетельствовал, что «путь к созерцанию Фаворской славы не поглощен бездною, не прегражден стеною, не зарос тернием, не забыт, не потерян, но еще и ныне указуется знающими желающим». Уже в то время святитель был наслышан об отшельниках-исихастах преподобных Василиске Сибирском и Зосиме (Верховском), а в начале 1821-го лично познакомился со старцем Зосимой. Это знакомство стало для Филарета непосредственным соприкосновением с продолжателями живой традиции умного делания. «Повествования о действиях сердечной молитвы старца пустынножителя Василиска», изложенные преподобным Зосимой, стали известны святителю Филарету в числе первых и не могли не произвести глубокого впечатления.
В 1821 году архиепископ Филарет был назначен на Московскую кафедру, и новая паства обрела в его лице святителя-подвижника, который «при всем своем высоком положении в мире был в то же время и великим иноком, глубоко постигшим науку наук – духовно-нравственное усовершенствование». Филарет знал и ценил практику старческого окормления, был знаком со многими современными ему старцами, такими как Филарет (Пуляшкин), пустынножитель Свенской пустыни Арсений, настоятель Глинской пустыни Филарет (Данилевский).
Благодаря старцу Зосиме произошло знакомство святителя Филарета с отцом Антонием (Медведевым), одним из выдающихся представителей русского монашества XIX века. По совету отца Зосимы посетить Московского святителя Антоний, отправившийся весной 1824 года в паломничество к киевским святыням, встретился в Москве с архиепископом Филаретом и долго с ним беседовал. Рекомендация старца Зосимы могла определить и характер первой беседы архиепископа Филарета и иеромонаха Антония (до выхода отца Серафима из затвора оставался еще год, но не исключено, что речь могла идти и о нем).
Впоследствии святитель говорил, что эта встреча произвела на его душу сильное впечатление. Когда в 1831 году скончался наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Афанасий (Федоров) и встал вопрос о преемнике, Филарет остановил свой выбор на настоятеле Высокогорской пустыни Антонии. «Не хотелось мне брать человека из чужой епархии, тогда как много их в своей, – вспоминал он позже. – Но в это время явился странник, который и назвал мне наместником лавры отца Антония. В этом указании, совершенно совпадавшем с моею мыслию, я увидел указание Провидения».
Не могло не сыграть определенной роли и то, что Антоний при содействии князя Георгия Александровича Грузинского, правнука царя Вахтанга VI, получил достойное воспитание и образование, в том числе медицинское. Но важнее другое: к тому времени отец Антоний прошел достаточный срок настоятельского служения, имел длительный опыт общения с людьми высокой духовной жизни, был прекрасно знаком со святоотеческой литературой, неоднократно пользовался советами преподобного Серафима Саровского, в 1825 году вышедшего из затвора.
Известно, что за два месяца до получения официального приглашения от митрополита Филарета, в январе 1831-го, преподобный Серафим предсказал ему новое служение. «Промысл Божий вверяет тебе обширную лавру», – пророчески сказал старец и, к удивлению отца Антония, просил его милостиво принимать братию из Сарова. «Матерью будь, – говорил он, – а не отцом братии, и вообще ко всем будь милостивым и по себе смиренным. Смирение и осторожность есть красота добродетели». А потом добавил: «Не оставь сирот моих, когда дойдет до тебя время».
Из Троицко-Сергиевой лавры старцу Серафиму была прислана финифтяная икона преподобного Сергия, с которой его и похоронили, согласно завещанию.
Через архимандрита Антония, «мужа духовной деятельности, опытного в иноческом подвижничестве, умудренного и первоначальным руководством блаженного Серафима Саровского, и собственною практикою в жизни созерцательной», святитель Филарет познакомился с жизнью, наставлениями и чудесами преподобного. Наряду с отцом Антонием он становится исполнителем заветов преподобного Серафима: принимает в Троицкую обитель саровских монахов, оказывает помощь Дивеевской общине, содействует наместнику в руководстве лаврской братией. В письмах к отцу Антонию святитель неоднократно обращается к примеру и поучениям преподобного.
«Суждениям старца Паисия и старца Серафима покоряюсь, – пишет он 7 января 1834 года – Но вот слово, которое также не мимо идет: горе, имже соблазн приходит; уне и пр. Из сего не должно ли заключить, что немощь брата надобно покрывать и тихо исправлять, доколе нет соблазна многим; а когда соблазн является, то надобно или предать дело правосудию, или присоветовать брату удалиться инуды, чтоб и он меньше смущался, и меньше смущал других?.. Прекрасен совет отца Серафима – не бранить за порок, а только показывать его срам и последствия. Молитвы старца да помогут нам научиться исполнению».
То же наставление было записано святителем в особой «памятной книжке». В дальнейшем он вновь и вновь обращался к нему в своих письмах. Так, в письме к ректору Московской духовной академии архимандриту Алексию (Ржаницыну) в 1845 году митрополит Филарет, предполагая «лучше исключить, нежели удерживать» нерадивого студента, писал: «Снисхождение к преткнувшемуся и падшему надобно иметь, но снисхождение к небрежному и закосневающему в падении имеет в обществе неблагоприятное действие, охлаждая ревность и распространяя небрежение. Надобно беречь каждого: но еще больше беречь дух всего общества. Господь да наставляет соединять милость и истину».
Обращался митрополит Филарет к примеру преподобного Серафима и для дружеского наставления самого отца наместника: «Вы, мне помнится, сказывали, что покойного о. Серафима пересужали за свободное допущение к себе женского пола. Он мог пренебречь сие: то была его мера, и он не был обязан общественною должностию представлять в себе образец обыкновенного порядка. Нам не позволит сего и наша должность, и наша далеко низшая мера. Так, мне кажется, должно судить о многих подобных случаях».
Имея особенную чуткость в отношении тех, кто встал на путь созерцательной жизни, святитель Филарет бережно и с большим тактом ограждал их безмолвие, всячески опекал подвижников, охранял их покой, ценил их молитвы. «Если я чрез Ваше посредство, – писал он наместнику, – сподоблюсь чем послужить рабам Божиим и они не отринут сего, я приму сие как милостыню от них моему недостоинству и как милость Божию. Если не опасаетесь нарушить безмолвия аввы Петра воспоминанием о мне, то скажите ему, что по дару, пришедшему на мое недостоинство святым рукоположением, призываю я ему благословение Господне, по себе же прошу благословения его и аввы Серапиона, и молитв их. Если же не думаете сего сказать, довольно для меня и в молчании поклониться их безмолвию».
Святителя заботило то, что архимандрит Антоний подарил старцам его портрет: «Не вносите ли Вы чуждую молву в их безмолвие? Не довольно ли было дать смиренное имя на память молитвы? – Господь да сохранит простоту и безмолвие рабов Своих ненарушимыми».
В этих письмах Московский архипастырь предстает как духовный наставник монашествующих, опытно знакомый со святоотеческой практикой. Нельзя исключать и того, что в отношении троицких подвижников Филарет помнил поучение преподобного Серафима: «Пришедший в безмолвие должен непрестанно помнить, за чем пришел, чтобы не уклонилось сердце его к чему-либо другому».
Издание жития преподобного Серафима
По благословению митрополита Филарета и при его участии осуществилось издание первого жития преподобного Серафима. В 1834 году казначеем Вифанского монастыря стал иеромонах Сергий (Васильев), бывший насельник Саровской пустыни, где он подвизался в иночестве под руководством старцев-подвижников Марка и Серафима, там же он был рукоположен во иеромонаха. Еще в Сарове отец Сергий начал собирать сведения о трудах и духовных подвигах обоих старцев, записывать их наставления и проявления присущего им дара прозорливости и чудотворений. В Вифании им были составлены жития обоих саровских старцев.
Житие преподобного Серафима имело заглавие: «Сказание о жизни и подвигах блаженныя памяти отца Серафима, Саровския пустыни иеромонаха и затворника». К концу 1837 года работа была окончена и представлена митрополиту Филарету, который внес в текст ряд изменений. В июле 1838 года святитель Филарет писал отцу Антонию: «Были ль Вы, отец наместник, в Вифании и долго ли, Вы не сказываете, а я хотя через порог посмотрел в безмолвие, прочитав житие отца Серафима, и, как Вам хотелось, поправил несколько слов, где они казались поставленными не очень правильно».
Вскоре митрополит Филарет направил отредактированные им духовные наставления старца Серафима к отцу Антонию с объяснением причин своего вмешательства в оригинальный текст: «Я позволил себе переменить или дополнить некоторые выражения, частию, чтобы язык был правильнее, частию, чтобы мысли, не довольно полно или не довольно обыкновенно выраженные, оградить от неправильного разумения или от прекословий. Посмотрите и скажите мне, можно ли думать, что я не переиначил или не повредил где-либо мыслей старца. Скажите также, что думали бы Вы с сим делать. Чтобы не заградила пути сим листкам цензура, не вижу причины опасаться».
Однако святитель недооценил бдительность синодальной цензуры и вынужден был признать, что дело издания житий саровских старцев Марка и Серафима «не так хорошо продолжалось, как началось». «Оно казалось конченым, – писал митрополит Филарет лаврскому наместнику, – и я, не знаю почему, писал Вам…, что есть надежда. Но наш Первенствующий [митрополит Серафим (Глаголевский)] осторожность от ложных чудес употребляет иногда в большом избытке. Я не промолчал и, по замечанию других, не повредил истине, потому что представлял ее с миром, однако житие отца Марка дозволено напечатать с исключением некоторых мест, а житие отца Серафима лежит до лучшего усмотрения, как оно может пройти чрез узкие врата. Помолитесь, чтобы Бог устроил полезное».
Так благодаря мудрой дипломатичности митрополита Филарета в 1839 году вышло в свет «Краткое начертание жизни старца Саровской пустыни схимонаха и пустынника Марка», где после текста жития отца Марка следовали «Духовные наставления отца Серафима, Саровской пустыни иеромонаха, пустынника и затворника» в тридцати трех главах.
В конце 1840 года появилась надежда, что житие саровского подвижника все же будет издано. Положительный отзыв о житии был получен от епископа Тамбовского Арсения (Москвина), имевшего возможность на собственном опыте убедиться в прозорливости старца. Собрав сведения о строгой подвижнической жизни отца Серафима и отметив «единогласное показание» многих свидетелей его духовных видений и чудотворений, он нашел рукопись «во всех ее подробностях совершенно согласною с истиною». Убежденный в особых дарах преподобного, владыка Арсений отметил, что «свидетелей на это из всех сословий может быть очень много, в число коих я могу почти включить и самого себя».
Однако мнения присутствовавших в Синоде архиереев разделились. По словам Филарета, «Владыка Новогородский опять восстал со своими недоумениями о чудесных событиях», у митрополита Ионы (Василевского) возникли претензии к Преосвященному Тамбовскому, который якобы «не назвал по имени свидетелей, и даже сказал, что больше было свидетелей противного мнения, и что Преосвященный утаил сие». Митрополиту Московскому удалось «ослабить сомнения» митрополита Ионы и убедить митрополита Серафима дать рукопись на рассмотрение архиепископу Подольскому Кириллу (Богословскому-Платонову), и если у последнего сомнений не возникнет, то «голосов в ее пользу будет достаточно». 6 февраля 1841 года Преосвященный Кирилл доложил Святейшему Синоду: «По внимательном прочтении сей рукописи не нашел я ничего сомнительного к напечатанию оной… издание… признаю со своей стороны приличным и потому, что духовные наставления отца Серафима, затворника Саровской обители, исполненные глубокой евангельской мудрости, напечатаны уже при жизни подобного подвижника Марка».
Это мнение решило вопрос об издании первого жизнеописания преподобного Серафима. В том же году в Москве «Сказание о жизни и подвигах блаженныя памяти отца Серафима, Саровской пустыни иеромонаха и затворника» вышло в свет. Эта небольшая, в 31 страницу, книжка была напечатана в Московской университетской типографии в сокращенном виде при редакторской правке митрополита Филарета.
Затруднения, возникшие при издании жизнеописания, наставлений и чудес преподобного Серафима, были связаны с политикой духовной цензуры, действию которой в первой половине XIX века подвергались многие сочинения святых отцов и в первую очередь тех из них, которые относились к православной созерцательной традиции. В синодальном Петербурге продолжали относиться к подобной литературе с настороженностью: «мистическое» для них тогда было синонимом «масонского».
Митрополиту Филарету неоднократно приходилось выступать в защиту святоотеческого созерцательного богословия. Так, когда в Оптиной пустыни началось осуществление масштабного издательского проекта – публикация творений святых отцов на славянском и русском языках, Московский святитель не только осуществлял скрупулезный труд по редактированию переводов, но и брал на себя ответственность за допущение издания к печати, невзирая на мнение цензуры. Когда же в Оптину стали приходить благодарственные отзывы, преподобный Макарий Оптинский, инициатор издательской деятельности Ильинского скита, писал: «Тут нашего ничего нет, а все Божиим благоволением для пользы желающих и ищущих душевной пользы совершилось! Как бы мы могли приступить к столь важному и необычному для нас делу? Но Бог воздвиг людей благомыслящих к содействию в деле сем; а более всего благоволение и благословение милостивого архипастыря [митрополита Филарета] послужило к изданию лежавших под спудом в рукописях блаженного старца Паисия Молдавского переводов».
Святитель Игнатий (Брянчанинов) считал покровительство митрополита Филарета оптинскому книгоиздательству его святительским подвигом. «Все монашество, – писал он старцу Макарию, – обязано благодарностию этому архипастырю за издание отеческих книг Оптиною пустынею. Другой на месте его никак не решился дать дозволения на такое издание, которое едва ли уже повторится».
Основание Гефсиманского скита
В 1842 г. по инициативе архимандрита Антонина и с благословения митрополита Филарета при Троице-Сергиевой лавре был основан пустынножительный Гефсиманский скит. Возникновение Новой Гефсимании, оказавшей заметное влияние на монастырскую жизнь не только Московской епархии, но и всей России, историки справедливо связывают с «прямым влиянием преподобного Серафима через архимандрита Антония».
Созидая обитель для пустынножителей, ее устроители безусловно имели в виду подвиг преподобного Серафима. Так, в заботе о будущих насельниках, митрополит писал: «Добре было бы, если бы пришли сюда последователи путей отца Серафима и его сподвижников и разнообразие видов природы населили благодатными созерцаниями». Устав скита был составлен по образцу Саровской пустыни, да и посвящение скитской церкви Успению Пресвятой Богородицы напоминало об особом почитании Богоматери саровским старцем. Филарет называл скит «домом Пресвятой Богородицы» и призывал братию «преклонять души свои под Ее покров, прося себе спасительного устроения».
Святитель Филарет, неоднократно упоминавший в проповедях тех, кто «в уединении может вкушать сладость безмолвия и в невозмущенном воздухе зреть чистый свет Божий», избрал новоустроенный скит местом отдохновения от архипастырских трудов. Всей душой полюбив Новую Гефсиманию с ее строгим уставом, предельной простотой обихода, непрестанным чтением Псалтыри, недопущением женщин митрополит Филарет отдавал должное духовной опытности архимандрита Антония: «Гефсиманского скита не было бы, если бы на Вашем месте был другой, даже из пользующихся моею доверенностию, потому что, не доверяя себе, не имел бы я довольно доверенности к тому, что дело сделается порядочно, не будет затруднения в способах и можно надеяться некоторого духовного плода. Только полная доверенность к Вашему духовному рассуждению и к чистоте намерения расположила меня решиться на дело, не принимая в расчет возможных неприятностей за несоблюдение форм пред начальством».
В устроении скита и духовном руководстве братии, лаврской и скитской, митрополит Филарет и архимандрит Антоний на равных выступают исполнителями завета преподобного Серафима, данного отцу Антонию перед назначением того наместником Троице-Сергиевой лавры. Не менее ревностно относились они и к просьбе старца «не оставлять его сирот».
Исполнители заветов преподобного Серафима
После кончины преподобного Серафима Дивеевские общины – Казанская церковная матушки Александры (Мельгуновой) и Мельничная девичья батюшки Серафима – остались без всякого обеспечения, не имели правительственного утверждения на существование, не располагали необходимыми документами на землю, на которой они устроились и которою пользовались. Зимой 1834 – 1835 годов одна из сестер Мельничной общины была делегирована к митрополиту Московскому за содействием в деле учреждения общежительной общины, но Филарет, не получив, «по простоте ее», необходимых сведений, направил ее в лавру к наместнику, чтобы отец Антоний разрешил возникшие вопросы и, прежде всего, «надобно ли просить утверждения или жить, как жили, в надежде на Бога». «Осмотрите сие дело получше, – писал архипастырь, – и скажите мне, что делать».
По мнению архимандрита, следовало поднять вопрос об утверждении Дивеевской общины. Но к рассмотрению дела в Святейшем Синоде смогли приступить лишь в начале 1838 года по ходатайству Н.А. Мотовилова к обер-прокурору графу Н.А. Протасову, и только в апреле 1842 года святитель сообщил отцу Антонию о положительном решении: «Полагается утвердить общину, но еще не знаю, как сие совершится. Потребно Высочайшее соизволение. Чтобы две общины Дивеевские соединить в одну я говорил». В том же 1842 году обе общины были объединены в одну с общей начальницей И.П. Кочеуловой.
Обращались «серафимовы сироты» за помощью к московским покровителям и в других обстоятельствах. Так, когда в 1840 году из-за засухи и неурожая поднялись цены на хлеб, сестры Мельничной общины, испытывая трудности от недостатка средств, вновь обратились к митрополиту Филарету, который перенаправил их к отцу Антонию: «Сие доставят Вам, отец наместник, дивеевские. Их полтораста человек терпят голод и спрашивают меня, что делать. Где собрать столько пособия, чтобы пропитать столько?» Полагая, что «перемена места на время, по причине глада, может быть сделана без неверности пред Богом», святитель посоветовал сестрам временно разойтись по тем местам, откуда они прибыли, но те отказались. Тогда он предложил терпеть до последнего, «а при стесняющей крайности отпустить, кого можно, с надеждою и без опасности». Было решено послать в Дивеево деньги на закупку продовольствия, в связи с чем митрополит Филарет писал отцу Антонию: «Поелику Дивеевские обратились ко мне, то пошлите им триста рублей моих в состав того, что Вы назначаете. Послать же точно надобно по почте, для безопасности. В руки дал я им на дорогу 100 рублей, а более опасался. Они назвали мне саровского иеромонаха Илариона, чтобы послать на его имя. Впрочем, Вы сами знаете, как лучше».
Зная, что Саровское начальство не имеет особого расположения к дивеевским сестрам, отец наместник, с согласия святителя, решил все же послать пособие на имя игумена, «в надежде, что он тем возбудится к человеколюбивому в них участию».
Известно и о роли Московского святителя и архимандрита Антония в разрешении «дивеевской смуты», история которой получила широкое освещение в отечественной историографии. В 1859 году из-за нестроений в общине, вызванных вмешательством в ее дела иеромонаха Иоасафа (Толстошеева), в Москву на Сухаревское подворье прибыла начальница общины Екатерина Васильевна Ладыженская со своей сестрой. Их знакомство с наместником Антонием, к которому они прибыли с письмом от митрополита Филарета, сопровождалось необыкновенным обстоятельством, о котором известно со слов отца Антония. Взяв в руки поданное ему письмо владыки, он явственно услышал голос отца Серафима: «Не забудь моих сирот!» Взволнованный, не распечатав письма, он удалился в кабинет. Из письма отец Антоний узнал, что дело идет о дивеевских «сиротах» саровского старца. По благословению митрополита Филарета сестры остались в его епархии, поселившись сначала в Спасо-Влахернском, а позже в Хотьковом монастыре. В октябре 1859 года Ладыженская была пострижена в рясофор в Троице-Сергиевой лавре, а в марте 1861-го назначена смотрительницей дома призрения при этой обители.
Расследуя обстоятельства дела, митрополит Филарет обращался к молитвенному предстательству преподобного Серафима: «Призовем молитвы отца Серафима, чтобы из испытания вышло сохранным то, что наипаче достойно сохранения». В феврале 1862 году, по благополучном завершении дела, митрополит Филарет спешил обрадовать отца Антония: «Не без участия узнаете Вы, Отец Наместник, что молитвы отца Серафима победили». В 1864 г. сестры Ладыженские, Екатерина, Анна и Агриппина, вернулись в Дивеевский монастырь, где приняли монашеский постриг.
Митрополит Филарет как духовник отца Антония
Неукоснительное на протяжении нескольких десятилетий исполнение заветов Серафима Саровского митрополитом Филаретом и архимандритом Антонием навряд ли стало бы возможно без тех особых духовных отношений, которые их связывали, – отношений, которые имел в виду преподобный Серафим, когда писал, что «совершенная любовь к Богу соединяет любящих с Богом и между собою взаимно».
В воспитаннике саровского старца Московский святитель обрел друга и сотаинника, к духовному рассуждению которого он имел «полную доверенность». «С утешением и благодарностию воспоминаю я Ваше со мною общение в слове искренности на пользу души, – писал он в октябре 1836 года – Молю Бога, чтобы Он благоволил продолжаться сему».
Архимандрит Антоний, со своей стороны, встретил в митрополите Филарете не только опытного духовного наставника, но и любящего отца. «Любил он меня как сына, – признался наместник лавры игумении Евгении (Озеровой), – не скрывал от меня своих светлых мыслей; а между тем я чувствовал пред ним великий страх и благоговение».
В литературе архимандрита Антония (Медведева) часто называют духовником митрополита Филарета, но справедливее говорить об их взаимном духовничестве, о чем свидетельствует их многолетняя переписка.
Важнейшим условием монашеского делания святитель Филарет считал исполнение Христовой заповеди: Ты же, егда молишися, вниди в клеть твою, и затворив двери твоя, помолися Отцу твоему, иже в тайне (Мф. 6. 6). В духовном молитвенном уединении он видел залог «безмолвия, благодатию осеняемого» и непрестанного пребывания пред лицем Божиим.
Письма святителя Филарета к отцу Антонию изобилуют, по выражению И.В. Киреевского, «бриллиантовыми камушками» духовной мудрости, которые «должны лежать в основании Сионской крепости».
До конца своих дней архипастырь хранил память о старце Серафиме. Убежденный в его прозорливости («отец Серафим не предсказал ли многое многим?»), он наставлял отца Антония в искусстве духовного руководства братией: «Всякому подвизающемуся о своем спасении можно и должно сказать: несть ти потреба тайных (Сир. 3 22), не ищи знать сокровенное или будущее. Для спасения нужно веровать, исполнять заповеди, очищать сердце, а не любопытствовать. Желать знать сокровенное опасно; а желать открывать оное еще опаснее».
Но и в сугубо житейских вопросах наместник и настоятель лавры вновь и вновь обращались к примеру преподобного Серафима. Так, зимой 1861 года, когда в кельях наместника было всего десять градусов тепла, владыка, беспокоясь о его здоровье, предложил протопить свои келии, чтобы «на время холода» Антоний перешел туда, но последний отказался, ссылаясь на саровского старца, на что митрополит Филарет возразил: «Благодарю за поучительное рассуждение отца Серафима о келлии. Но он держался в своей келлии, как в крепости, потому что его вызывали из нее на сражение; моя келлия не стала бы с Вами сражаться. Впрочем, да будет, как лучше рассуждаете; только берегите свое здоровье».
Архимандриту Антонию принадлежат проникновенные слова о духовном руководстве митрополита Филарета. Наместник Троице-Сергиевой лавры и принадлежавших ей скитов, благочинный ряда московских, в том числе женских, обителей, строгий исполнитель заветов преподобного Серафима Саровского, отец Антоний видел в святителе не только духовного отца, но и духоносного старца. Но святитель на такое его признание ответил: «Смирением Вашим наименованный старец видит себя таким по ветхости дней; а чтобы в сей ветхости обрелось нечто от нового человека и чтобы не чуждым быть истинной седины, которая есть мудрость, о том просит споспешествующих молитв Ваших».
После кончины святителя архимандрит Антоний, испытывая чувство сиротства, писал близким: «Я лишен в смерти его не только отца, но друга и покровителя»; в другом письме он признавался: «Скорбь моя о лишении отца, и друга, и владыки тяжело легла во мне. Если бы можно, ушел бы в пустынную келлию, устранясь от дел и людей. Не знаю, что будет далее, … но отца для меня по Боге в настоящей жизни нет и не будет».
На характере отношений отца наместника и Московского святителя сказалась их глубокая укорененность в святоотеческой созерцательной традиции, чему в немалой степени содействовало и опытное знакомство с духовными наставлениями преподобного Серафима, нашедшими отклик во многих письмах Филарета Московского. Как и преподобный, учивший «всеми силами стараться, чтобы сохранить душевный мир», и умолявший своих чад: «Стяжи мирный дух, и тогда тысяча душ спасется около тебя», так и Филарет превыше всего ставил мирное устроение души и призывал «утишать волнение души и шум мыслей призыванием имени Иисусова кротким и мирным».
Те, кто знал святителя и имел счастье беседовать с ним, вспоминали, что «переживали перед ним какое-то особое успокоение духа. Что-то совершенное, законченное, глубоко мирное было в самом облике его, в речах, словах, в движениях, в том, как благословлял народ». В связи с этим вновь вспоминаются слова Саровского чудотворца: «Когда человек придет в мирное устроение, тогда он может от себя и на других изливать свет просвещенного разума».
И внемлет арфе Серафима…
Эпистолярное наследие митрополита Филарета позволяет говорить не только о заметном влиянии наставлений преподобного Серафима на богословское наследие Московского архипастыря, но и о важной роли их обоих в деле распространения святоотеческой аскетической традиции не только среди монашествующих, но и в светской среде. Тому способствовал и характер их поучений, отличавшихся глубиной и афористичностью при особенной выразительности стиля. Митрополит-священномученик Серафим (Чичагов) отмечал, что наставления саровского старца, написанные «в духе подвижническом», отличаются «верностью мысли, краткостью и силой выражения». О поэтическом даре митрополита Филарета известно по первым опытам его ученических приношений митрополиту Платону (Левшину), по светоносным «фаворским» стихам 1820-х годов, стихотворному переложению кондака на Преображение и переводу стихотворения Григория Богослова, известному как «Песнь умилостивительная», сделанному в уединении Гефсиманского скита за год до смерти. И, конечно, же по знаменитой стихотворной переписке с А.С. Пушкиным.
В этой связи позволим себе обратиться к тайне последней строфы стихотворения великого поэта, посвященного Московскому святителю, по поводу которой литературоведы так и не пришли к единому мнению, существовал ли так называемый «черновой» вариант:
Твоим огнем душа согрета,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.
Вопреки мнению таких авторитетов, как В.С. Непомнящий и М.М. Дунаев, склоняющихся к тому, что «принадлежность варианта с «арфой Филарета» Пушкину, «мягко говоря, более чем сомнительна»», рискнем предположить, что ответное стихотворение Филарета действительно было предназначено скорее согреть, чем опалить душу унывающего поэта, который по какой-либо причине, например, из соображений внутреннего такта, не посчитал возможным напрямую упомянуть имя знаменитого архипастыря. Но в «окончательном» пушкинском варианте появляется арфа Серафима:
Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.
И если взглянуть на эту строфу под иным углом зрения, возникает вопрос: не могло ли случиться, что поэт-пророк в период духовного кризиса провидчески объединил в своем стихотворении двух современных ему подвижников-продолжателей традиции созерцательного богословия – преподобного старца Серафима и святителя Московского Филарета?..
Ирина Юрьевна СМИРНОВА,
доктор исторических наук
В основе публикации –
статья журнала «Московские епархиальные ведомости»
(№7, 2016 г.)