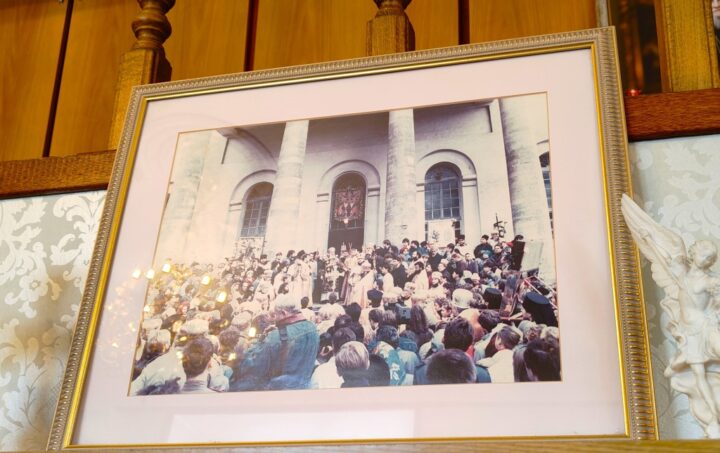Какой образ России, в том числе жизни народа и духовных традиций, русского идеала святости, формировала у англичан и других народов Британской империи столетие назад англоязычная пресса, очень ярко показывает ее реакция на прославление преподобного Серафима Саровского в 1903 году. В канун 122-й годовщины этого события попробуем рассмотреть случившееся тогда через «зеркало» британской журналистики. Какие акценты расставляла зарубежная пресса, рассказывая о великом духовном торжестве в нашей стране?
В общей сложности в ходе исследования было рассмотрено около 150 газетных публикаций и две книги. Конкретно в случае фигуры преподобного Серафима эти публикации, конечно, не могут дать дополнительных штрихов к его портрету – почти все газетные статьи либо содержат краткое обобщение событий с оценочными комментариями либо являются отголосками русскоязычных газетных публикаций. В то же время они иллюстрируют разницу языковых культур, свидетельствуют о том, какой образ России складывается в глазах их читателей и какие подробности событий оказываются наиболее интересными для англичан, а также в очередной раз предоставляют примеры явной ангажированности британской прессы.
Что узнали британцы из газет о русском святом?
Впервые имя преподобного Серафима появляется в связи с объявлением о канонизации в сообщении английского журналиста от 21 февраля 1903 годах в газетах «Times» и «Evening Mail», опубликованном 27 февраля и затем перепечатанном в нескольких других газетах.
Заметка «A New Russian Saint» («Новый русский святой») в «Evening Mail посвящена публикации официального доклада Святейшего Синода, по результатам которого был канонизирован отец Серафим из Саровского монастыря. Доклад, говорится в статье, содержит описание 94 чудес, большинство из которых подтверждены надежными свидетелями, а также ссылается на сотни хранящихся в Саровском монастыре писем от разных лиц, которые получили исцеление или иную помощь по заступничеству святого. Автор подчеркивает современность преподобного: отец Серафим умер «только» в 1833 году, и чудеса, подлинность которых засвидетельствовал Синод, относятся к «прозаическому» XIX столетию.
Далее он излагает историю канонизации, которая тянулась с 1892 года, когда была назначена специальная комиссия по изучению «чудесных знаков и исцелений» по молитвам отца Серафима, до 7 августа прошлого, 1902 года, когда император выразил желание, чтобы Синод довел до конца шаги по официальной канонизации святого. 24 января 1903 года самодержцу был подан доклад Святейшего Синода с решением о канонизации, на котором он начертал: «Прочел с истинной радостью и глубоким чувством», а также с решением признать останки отца Серафима святыми мощами, которые будут храниться в особой раке, пожертвованной усердием Его Величества. Заметка сообщает также об опубликованных в «Официальном вестнике» планах по торжественному прославлению преподобного 19 июля (1 августа) 1903 года в присутствии Императора и о назначении особых чиновников для организации торжеств с учетом стечения народа.
Далее фрагменты этой статьи с таким же или похожим названием публикуются в региональных газетах. В изданиях «Catholic Times and Catholic Opinion» и «Gloucester Citizen» даются авторские пересказы и комментарии: в католической газете автор отмечает, что это событие не будет способствовать объединению Англиканской и Восточной Церквей, которое тогда было на повестке дня; в «Gloucester Citizen» – что путешественники в Россию этим летом смогут поприсутствовать на канонизации святого, что является «редким, почти уникальным» событием в Греческой (имеется в виду Православной — прим.) Церкви.

После этого появляется случайная статья в «Daily Mail», где сообщается о планах паломнической поездки царя и всего русского императорского двора летом в пустынь святого Серафима, для чего построена специальная ветка железной дороги длиной 66 миль, и о том, что «многое ожидается от этого Высочайшего визита к отшельнику-чудотворцу Саровской пустыни».
Следующим событием, всколыхнувшим газетные сообщения в английской прессе, стала публикация в начале июля в российском «Новом времени» письма митрополита Санкт- Петербургского о листовке, тайно распространяемой неким антицерковным обществом, где бросалась тень на святость преподобного Серафима из-за неполной сохранности мощей. В английских заметках, передающих содержание письма иерарха Русской Церкви, подчеркивается, что митрополит «смело» сообщает о том, что сохранились лишь кости и власы преподобного, однако что его святость полностью установлена многими чудесами от его мощей, земли от могилы, камня, на котором он молился, и воды источника, от которых многие верующие исцелились.
Далее в конце месяца, уже с опорой на журнал «Церковные ведомости», об этом антицерковном обществе сообщают газеты «Globe» и «Bradford Daily Telegraph». По-видимому, интерес газет был вызван хотя бы малейшим намеком на скепсис в отношении мощей.
Далее следует довольно большой блок новостных публикаций в июле и августе о начале Высочайшего визита в Саров и о ходе самого торжества. Начинается он с кратких заметок о приготовлениях к грядущему событию. В заметке «Паломничество Царя» в газете «Morning Leader» говорится о полицейских мерах, принятых для обеспечения безопасности Царя во время его паломничества в Саров (большая часть столичной полиции направлена в Тамбовскую губернию) и о кратком плане предстоящих торжеств. В заметке в «Edinburgh Evening News» сообщается о том, что императорская чета отбыла из Санкт-Петербурга в «монастырь и пустынь Саров на большое православное паломничество», на торжества по прославлению преподобного Серафима.

Ядро новостного блока составляют две большие публикации в «Standard» и две – в «Times»: корреспондент первого издания передавал информацию непосредственно с места событий, из Арзамаса и Сарова, журналист второго – из Одессы (первая статья). Большинство остальных публикаций представляют собой новостной «шлейф» из перепечаток этих статей в других газетах.
Атмосферу подготовки к празднику и подъема религиозного чувства передает статья в издании «London Evening Standard» от 8 августа 1903 года. Сама статья вышла через семь дней после торжеств, но материал помечен датой за пять дней до праздника. Автор пишет: «Забыта знакомая суета подготовки к знаменитой ярмарке [в Нижнем Новгороде], и весь мир по дорогам и железной дороге спешит к месту, название которого до сих пор было известно только немногочисленным фанатично верующим, но впредь станет хорошо знакомым каждой русской семье по всей Империи» – в Саров, «в сорока милях к юго-востоку от Арзамаса, маленького города на новой железной дороге от Нижнего Новгорода до Тимирязево и Рязани». Автор называет преподобного Серафима «отшельником и мистиком» и отмечает, что «церемония обретения святых мощей всегда удивительна в наше время растущего неверия», но уникальным это событие делает участие в нем Царской семьи и членов Императорской фамилии.
Далее автор говорит о том, что особая связь Царя с этим святым восходит еще к периоду его путешествия в Японию в качестве Цесаревича, когда он остался невредим после нападения японского фанатика, согласно молве, благодаря шапочке преподобного Серафима: ее подарили цесаревичу из женского монастыря Понетаевка, где она хранилась.
Речь в статье снова возвращается к празднованиям: «в губернии царит суматоха подготовки и ожидания, местом заседания Правительства временно стал Арзамас», «на некоторое время сейчас Церковь превыше всего, а те, чья вера слаба, держит любые сомнения при себе», «здесь не видно следов» усилившегося в России в последнее время скептицизма и отхождения от Церкви, «верующие из самых дальних концов великой Империи собираются на празднование, огромно ожидаемое число людей», и пробраться ближе, чтобы «изблизи созерцать церемониальную часть, можно будет только тем избранным, кто заранее озаботился рекомендательными письмами и пропусками»; эти меры приняты с целью обеспечения порядка. В губернии много полиции и жандармерии, военных и казаков «на случай попыток демонстрации, которая, по слухам, готовится». Местные жители объединены в особые дружины.
Автор признает, что «официальными лицами сделано все возможное» для организации празднества: по пути следования паломников обеспечена горячая вода, с определенными интервалами возведены огромные навесы для защиты от непогоды, переезд «четвертым классом» по открытой две недели назад железной дороге от Нижнего Новгорода до Арзамаса стоит 75 копеек (18 пенсов); для пеших путников организованы профессиональные медицинские посты вдоль дорог.
Завершается статья сравнением этих картин с празднованиями в Индии.
Далее статья с различными сокращениями расходится под таким же или похожими названиями в другие газеты.
3 августа в газете «Newcastle Daily Chronicle» появляется очень краткая заметка фактологического характера, перепечатанная из материалов агентства «Reuter» и газеты «Telegraph», об участии членов Императорской фамилии в перенесении святых мощей 31 июля по новому стилю. Она же повторяется в «Evening Mail» и газете «Cork Weekly Examiner» (Ирландия).
Сообщения об отбытии Царской семьи из Сарова в Санкт-Петербург печатаются также 3 августа в разделе придворной хроники в целом ряде изданий.
10 августа 1903 ода в газете «Evening Mail» опубликован материал от корреспондента «Times» из Одессы, датированный 2 августа, т.е. на следующий день после торжеств. В нем описывается огромное стечение благочестивых русских всех классов – от императора, главы государства, до простого крестьянина. Оценка численности передается цифрой от 300 тысяч до 600 тысяч человек. Сообщается, что [российские] газеты ежедневно полны сообщений о чрезвычайных чудесах от мощей нового святого: по словам очевидцев, «слепые прозревают, хромые ходят, больные исцеляются от неизлечимых недугов». «В окрестностях Сарова царит большой религиозный энтузиазм, несмотря на исключительную жару».
Точно такая же заметка перепечатана в «St James’s Gazette» и в «Birmingham Daily Post».
Картина празднований описана довольно подробно и на удивление благожелательно в статье «New Russian Saint» в South Wales Daily Post, перепечатанной из материалов корреспондента Times, с подзаголовками «Красочные церемонии: присутствие Царя и Царицы», «Аскетичная жизнь святого: чудеса» и «Перенесение мощей св. Серафима». Акцент здесь сделан на участии Императора и членов его фамилии в торжествах и их общении с народом. Публикация отмечает, что российская пресса приветствовала участие императорской четы в торжествах как «акт высочайшей политической мудрости и замечательную демонстрацию благочестивого единства Царя с его православным народом».
Особо благоприятное впечатление оказало на людей участие императора и великих князей в перенесении мощей преподобного в Успенский собор в Сарове; мощи несли в ковчеге из кедра среди преклонивших колени богомольцев. Также «царь, царица и вдовствующая императрица присутствовали утром и вечером на службах и приступали ко Святому Причащению вместе с остальными собравшимися»; они были в центре сложных богослужений и процессий, проходивших на улице в окружении певчих и духовенства в роскошных облачениях – дар царя специально по этому случаю.
Также в публикации описываются масштабы торжеств: огромные толпы паломников, калек и больных собрались в монастырь со всех частей Империи, даже из Сибири, и многие расположились ночевать в лесах; присутствовало не менее 300 тысяч человек, за счет чего были некоторые сложности в обеспечении их достаточным количеством питания в таком отдаленном месте. Общий вес проданных свечей исчисляется 11,5 тонн. Множество совершенных исцелений от купания в святом источнике и во время богослужений должным образом свидетельствовались полицией и духовенством, упоминаются исцеления слепых, хромых, парализованных, глухих и немых.
В статье также приводится очень краткое житие святого: он был сыном купца из Курска, вел аскетичную жизнь затворника в Сарове, охотно помогал людям, по преданию, также кормил медведей в соседнем лесу, где на этих животных с тех пор не охотятся, носил берестяные лапти, был известен простотой и чистотой жизни, «что в газетах противопоставляется имперской и церковной пышности», с которой его мощи были прославлены. Почитанием пользуется «камень, истертый преклонением колен святого на молитве», и источник, «от которого, как говорят, ежедневно происходят исцеления». Далее фрагменты этой же публикации появляются в семи изданиях, в том числе «Lyttelton Times» в Новой Зеланидии.
Еще одна большая статья с подробным отчетом корреспондента «Standard» о его участии в торжествах выходит 17 августа и затем перепечатывается несколькими изданиями. В этом материале автор описывает свое путешествие из Арзамаса в Саров, поиски им и его друзьями места для проживания и то, как они остановились в палатке в лесу под монастырем рядом с палаткой Общества хоругвеносцев, меры безопасности, которые сделали эту местность «намного безопаснее, чем Риджент-стрит в ее лучшем состоянии», обилие обеспечивающих безопасность военных и полиции, а также получение пропусков на следующее утро.
Вторую часть статьи он посвящает описанию своего посещения святого источника и устройства, а также паломников. Поскольку в печати много говорилось о чудесах и исцелениях именно от святого источника, эта тема интересовала автора-скептика, по-видимому, более других, и он постарался, насколько мог, использовать свое положение «очевидца», чтобы «развенчать» эту славу своими впечатлениями, сообщив, что он не видел чудес, которые были бы бесспорными, и заострив внимание на кликушах, а также на том, что многие калеки уходили от источника неисцеленными, как и приходили туда.
Оканчивается статья размышлениями автора на тему «отсталости» русского народа, власти Церкви и потенциального использования торжеств для закрепления этой власти, а также для ужесточения политики государства по отношению к инакомыслящим.
Наконец, последняя оригинальная публикация на эту тему, «Русский Лурд: святой Серафим Саровский», выходит 29 августа 1903 года в иллюстрированном издании «The Sphere» с фотографиями, сделанными специально для этого журнала, и подписями под ними; подписи, однако, по большей части копируют куски из уже рассмотренных выше публикаций, в первую очередь, из Standard. Из заголовков к фото: «Царь и крестьяне, подносящие хлеб и соль», «Царица (со своим Кодаком) и ее сестра, Великая Княгиня Сергий [супруга Сергия Александровича]», «Царская семья выходит из церкви после службы у мощей святого», «Царь в узнаваемом белом кителе. Супруга. Вдовствующая Императрица», «Царь среди своих бедных подданных в Сарове», «Бедные крестьяне, готовящиеся купаться в святом источнике», «Процессия с мощами вокруг святого источника», «Царь и Великие Князья несут мощи нового русского святого, Серафима, в Сарове» (рисунок по фотографии).
В «Sphere» позднее, уже 5 сентября, опубликуют еще три фотографии из Сарова с заголовком «Некоторые типажи царских крестьян, снятые в Сарове». На фото – «Хор мальчиков, принимавший участие в торжествах в день св. Серафима», «Саровские крестьяне в своей воскресной одежде», «Крестьянские женщины и их мужья».
Еще одно фото из Сарова, «Царь и Великие Князья несут мощи святого Серафима», есть в журнале «Tatler» от 16 сентября.
В качестве послесловия к этим материалам приведем новость от 12 сентября в газете «Norwich Mercury»: «Говорят, что [Министр внутренних дел] де Плеве намерен выслать из страны всех иностранных корреспондентов», «гнев министра был вызван иностранными комментариями о состоянии внутренних дел Империи и недостаточным уважением, оказанным недавно прославленному русскому святому».
Как было видно из рассмотренных выше английских публикаций, далеко не все они характеризуются именно неуважением к святому, однако среди них действительно встречаются скептические и, в первую очередь, критические по отношению к государственной власти в России.
Тон публикаций и, что важнее, их лингвокультурные установки, мы разберем ниже.
Через год появится еще одно развернутое воспоминание о Саровских торжествах в мальтийской газете «Daily Malta Chronicle and Garrison Gazette» от 28 сентября 1904 г. под заголовком «Saint Seraphim: «A Russian Lourdes»», в связи с тем, что «[Русско-японская] война привлекла внимание общественности к повышенному доверию, которое проявляют русские люди к заступничеству св. Серафима», и в статье приводят воспоминания некого Д. Б. Макгована (Macgowan), присутствовавшего на торжествах в Сарове. Вначале кратко излагается житие преподобного, в том числе эпизод с его падением с колокольни в детстве. Говорится, что в юности он читал только Библию и жития святых, что став монахом, он молился множество ночей на камне и был провидцем.
За этим следуют отрывочные воспоминания о празднествах, которые, в целом, уже известны английскому читателю из публикаций за 1903 год, но отдельный большой блок посвящен чудесам (с подзаголовком «Чудеса все время»), причем Макгован начинает со случаев истерии (кликушества). В тех случаях, когда эта болезнь «принимает форму отвращения к религиозным занятиям, даже к звону колоколов», говорит он, «массы твердо убеждены, что такие больные бесноваты», и «отец Иоанн Кронштадтский особенно известен изгнанием бесов». Повествователь видел и слышал о случаях исцелений таких людей в Сарове, но он подводит читателя к мысли о том, что можно объяснить это погружением в очень холодную воду. Он также подробно излагает виденный им случай исцеления женщины с парализованной и искривленной рукой: священник окунал в воду ее руку, затем разогнул ее пальцы и помог ей перекреститься больной рукой; англичанина это не убедило, он потом «не смог узнать, осталась ли рука прямой: некоторые наблюдатели говорили, что результат был более положительным», чем он сам его нашел.
Повествователь, очевидно, колеблется в достоверности чудес и использует этот случай как пример «двойной трактовки», который можно объяснить и естественными причинами. Однако далее он передает слова русского репортера-лютеранина, который сам видел исцеление двухлетнего слепорожденного мальчика, и мужчины и мальчика, которые долго не могли ходить (эти случаи, как отмечает Макгован, фигурируют и в офи-циальных протоколах), а также передает историю исцеления глухонемой девочки.
Имя преподобного Серафима в дальнейшем появляется в газетных публикациях, главным образом, в связи с тремя основными темами:
● начала войны – Русско- японской в 1904 г., а затем в 1914 г. – Первой мировой, и набожности Государя и русских в целом, почитающих Преподобного;
● рождение наследника престола в 1904 г., которое, как верили люди, произошло по молитвам преподобного и именно после его прославления, в котором так усердно участвовал Государь;
● приоткрытие в 1912 году для публики сведений о частной жизни наследника, почитавшего преподобного.
В публикациях о Русско-японской войне упоминается то, что царь благословляет войска иконой святого Серафима, что церкви в России после начала войны заполнены и даже русские политики, «чья прозорливость и энергия часто вызывает восхищение в Западной Европе, взялись за дальневосточный кризис после паломничества к иконе Казанской Божией Матери или к чудотворцу св. Серафиму», о поднесении иконы св. Серафима генералу Куропаткин, о шапочке преподобного, которую Государь может взять с собой, если поедет на фронт, об окроплении адмирала Скрыдлова, отбывающего на фронт, водой из источника св. Серафима. Публикуется перевод статьи Е. Поселянина про необходимость молитвы о защите Порт-Артура, где есть призыв молиться св. Серафиму. В англоязычных изданиях размещаются фотография моряков «Варяга» в Одессе, перед которыми несут образ св. Серафима, и репродукция картины «Император Александр I беседует со св. Серафимом в Сарове как часть серии «Русская история в картинах». Встречаются и другие статьи, где вскользь упоминается имя святого в контексте веры и надежды русских на его предстательство и чудо в победе в войне, почитание его икон и т.д.
13 августа 1904 г. начинается волна публикаций из нескольких оригинальных статей и их перепечаток, посвященных рождению наследника российского престола цесаревича Алексия. В них обязательно указывается – благосклонно или скептически – что молва приписывает это долгожданное событие молитвам св. Серафима, которого так почитает царь и в прославлении которого он участвовал (в общей сложности более 50 публикаций), и в источнике которого купалась царица.
В «Nottingham Evening Post» рассказывается о сне, который еще раньше видела Александра Феодоровна: некий старец обещал ей сына, если будут открыты его мощи; она рассказала о сне царю, и тот показал ей изображения разных святых, среди которых царица опознала виденного ею старца в изображении святого Серафима.
В ряде статей констатируется, что недавнее рождение наследника сделало св. Серафима самым любимым и популярным святым в России.
Небольшой всплеск упоминаний преподобного (шесть публикаций) приходится на 1912 и 1913 годы, когда публике впервые рассказали о буднях наследника-цесаревича; среди прочего упоминается, что он «любит жития святых, особенно святого Серафима, на чьем прославлении его родители присутствовали в 1903 г.» и по молитвам которого, согласно молве, и родился наследник
Имя этого угодника Божия появляется в печати также в связи с назначением архиепископа Серафима (Чичагова) членом Синода и в связи с предсмертным причащением митрополита Антония (Вадковского) Отмечается роль первого в прославлении святого Серафима; во второй публикации говорится о сделанном преподобным чудотворном деревянном кресте, который дали в руки умирающему владыке Антонию.
Наконец, в новостях из России о начале Первой мировой войны вновь упоминается набожность Царя, его участие в Саровских торжествах, то, что у него хранится шапочка преподобного Серафима, которая сохранила его от удара в Японии, и что теперь ему она снова понадобится, если он отправится на фронт.
Стереотипы и скепсис
Как видно из проведенного выше обзора, английские публикации, упоминающие имя преподобного Серафима, глубоко вторичны по отношению к российской прессе в смысле сведений о событиях его прославления. В то же время они представляют интерес с точки зрения лингвокультурных различий между русской и английской картинами мира, включая нравственные и даже догматические моменты, а также с точки зрения психологических установок, которые использовала английская пресса для создания образа России в глазах англоязычных читателей и, таким образом, проведения в жизнь политики Великобритании в отношении России.
Начальной точкой анализа в этом смысле становится тон рассматриваемых публикаций. В целом его можно охарактеризовать как нейтрально-фактический и уважительный, однако во многих статьях прорывается скепсис и ирония, в первую очередь, в комментариях по поводу «усмотренных» авторами стереотипов русской жизни и политики.
Можно условно выделить следующие виды критики, которые зачастую взаимосвязаны:
● социально- экономическая и политическая критика;
● критика Русской Церкви и Православия в целом с позиции религиозных скептиков, с одной стороны, и англикан и католиков, с другой;
● критика русских как народа и русской культуры.
Корреспонденты – авторы ключевых статей по́ходя вплетают в свой текст социально- экономическую и политическую критику, например, в заметке в «London Evening Standard» от 8 августа 1903 года, выставляется на первый план бедность большинства паломников на праздновании, которым противопоставлены менее многочисленные верующие из высших классов, подчеркивается также, что бедные паломники приезжают поезд за поездом в «скотовозах», вагонах «четвертого класса», на которых написано «40 человек, 8 лошадей». Эхом к этой же мысли служит и сравнение масштабов религиозных празднований с Индией.
В пересказе «Sphere» от 29 августа 1903 года мысль о бедности паломников кажется еще радикальнее: «Царь и его свита были единственными людьми какого-либо высокого положения на праздновании. Тысячи, которые приехали, принадлежали к беднейшему классу крестьян»; далее подпись к странице с фотографиями народа на празднестве гласит: «Царь среди своих бедных подданных в Сарове».
В этом противопоставлении бедных и богатых мы также видим скрытое пренебрежительное отношение к чудесам и обряду как якобы уделу бедных и необразованных.
В статье в газете «Evening Mail» от 10 августа 1903 года критикуется организация праздника в плане обеспечения продовольствием, в первую очередь, хлебом: «многие паломники уже несколько дней страдают от лишений», а «обеспечение хлебом, основной пищей беднейших паломников, увы, недостаточно».
Как бы попутно автор делает стереотипизирующее обобщение: «Это давняя история в России – полная нехватка рациональной организации», – что контрастирует с описанным выше заключением корреспондента из «Standard» о высоком уровне организации праздника.
В публикации «Evening Mail» о работе комиссии по прославлению преподобного Серафима автор отмечает, что она «интересна с этнопсихологической точки зрения», и что она велась с «характерной российской прокрастинацией», ускорение которой дало указание императора в августе 1902 года, после чего все было завершено в краткие сроки.
Традиционным для многих английских авторов, писавших о России, является в целом довольно пренебрежительное и высокомерное отношение к Русской Церкви, об истоках которого поговорим ниже. В статье в издании «London Evening Standard» от 8 августа 1903 года есть ремарка: «Россия полна мощей – нетленных останков святых людей, которые творят чудеса и исцеления и являются источником огромного дохода монастырей и церквей, которым посчастливится обладать ими». Дважды в статье повторяется словосочетание «растущее неверие» как в целом, так и в России, где в последнее время «силён скептицизм», а «Церковь уже не имеет той власти над всеми классами общества, которой она когда-то обладала».
Сами факты чудес и почитания мощей должны были вызывать у английских авторов особый скепсис, хотя интересно, что во многих публикациях о чудесах сообщается во вполне нейтральном фактическом ключе: «слепые прозревают, хромые ходят, больные исцеляются от неизлечимых недугов». Вместе с тем, встречаются и скептические комментарии: в «St James’s Gazette» от 14 августа верующие называются «легковерными и фанатичными», а подъем религиозного чувства свысока сравнивается с золотой лихорадкой на Юконе и паломничеством в Мекку.
Пожалуй, ярким образчиком скептицизма по отношению к чудесам, смешанного с хрестоматийным высокомерием «колонизаторского дискурса» по отношению к российскому народу и государству является статья в «Standard» от 17 августа 1903 года. Стоит привести полностью ее финальный фрагмент, где автор пускается в рассуждения по поводу веры в России:
«Вера – или суеверие – простых людей в России есть то, чего в наши дни не может осознать ни один европеец. Она стоит на том уровне цивилизации, который в нашей стране начал исчезать, когда Чосер писал «Кентерберийские рассказы» [XIV в.]. Требуется серьезное умственное усилие, чтобы приблизиться к пониманию умственного настроя обычного современного русского человека. Конечно, паломники не представляли собой вполне показательных образцов всего народа, и сами они были отсеяны и получили входные билеты, гарантирующие их хорошее поведение. Но даже при учете всего этого остается дивиться, что в двадцатом веке можно найти нацию такого уровня – самого низкого уровня самого темного средневековья. Церковь доказала всем, кто видел эти картины в Сарове, что она представляет собой абсолютно сильнейшую силу в России, во всяком случае, до тех пор, пока она не стала воинственной. Нападки на Толстого едва ли укрепили Православную Церковь, и маловероятно, что подобные политические ошибки будут допущены в будущем. Но в «большом народном сердце» ее господство в полной безопасности, и у народа теперь есть пример царя, который укрепит колеблющихся в вере и запугает и заставит благоразумно молчать тех, чье мнение о Церкви и государстве неприемлемо и недозволенно в России. Посещение царем Саровской пустыни знаменует собой поворотный момент во внутренней политике страны. Те проблески либеральной тенденции, которые до сих пор были заметны, исчезнут, и произойдет возврат к железной дисциплине Православной Церкви и государственных деятелей, которые находят свои идеалы в принципах правления первого Николая».
Чуждое «старое благочестие»
Если читать эти мысли в контексте церковной истории самой Англии, они очень хорошо вписываются в динамику ее развития и могут быть объяснены теми внутренними противоречиями, которые восходят к эпохе Реформации. В книге «Обнажение алтарей» Эймон Даффи в подробностях показывает, как в течение нескольких десятилетий XVI века под нажимом государственной власти Англия переходит от католичества к протестантизму. Он описывает религиозность католической Англии, где царит знакомая и католикам, и православным приверженность обряду в широком понимании, включая крестные ходы и праздники, почитание святых, мощей и священных изображений, святых мест и источников, различных святынь вроде святой воды и освященного хлеба, – и затем как далее все это жестоко искореняется новой светско-церковной властью как то самое «суеверие».
«Суеверие» становится одним из ключевых понятий и слов нового дискурса, направленным против всего старого благочестия. В попытках отмежеваться от Рима проповедники сурово бичуют его как ошибочное, «отсталое», почти греховное – сначала среди собственного народа. Затем британские торговцы, а впоследствии и другие посетители России (например, Флетчер, Коллинз) этим же словом «суеверие» отзываются о православных религиозных обрядах, которые для них исторически не чужды, но ассоциируются с собственно английскими «суевериями», и, соответственно, заслуживают религиозного осуждения. В XVII веке искоренение старого благочестия в Англии во многом доводится до конца в ходе революции.
Насколько глубоко боязнь такого благочестия была привита англичанам, может иллюстрировать история, рассказанная мне знакомой православной англичанкой, которая с некоторым смущением призналась, что в начале ее пути в Православной Церкви знакомые привезли ее в Дивеево и для неё казалось диким, что с утра первым делом все пошли «целовать мертвое тело». Впоследствии, конечно, она вошла в православную традицию и теперь использовала этот пример, чтобы показать, с какими сложностями перехода в Православие сталкиваются люди из англиканского культурного фона.
Идея о святости в этой среде также развивается по-своему, в сторону идеала деятельной практической любви к людям, но, скорее, не в дополнение, а в противовес аскетизму и мистической и молитвенной духовности. Она ярко проявила себя в отмене монашества в протестантизме. Рецензент книги Р. Рейнольдса «Мой год в России» в газете Evening Irish Times от 1 февраля 1913 года цитирует его слова: «Святой Серафим – самый популярный святой в современной России …он не был бы популярен в Англии».
Британцы о русском идеале святости
Эта культурная разница хорошо показана автором другой публикации, где он использует как пример именно образ преподобного Серафима. В статье в «Daily News» (Лондон) от 4 октября 1906 г., анализирующей тревогу в Русской Православной Церкви по поводу последствий Указа о свободе вероисповедания от 1905 г., содержатся рассуждения о разнице в понимании святости на Западе и в России: в России «ничто так не пленяет воображение людей, как святость, не в той практичной и энергичной форме, которую одобряют Западники, а в ее более беспощадных и строгих проявлениях. Там, где мы ожидаем конкретных результатов, русские довольствуются понятием самоотречения. Мы можем удивляться жестокой строгости, с которой отшельники египетской Фиваиды укрощали плоть, но это нас не трогает; у русских есть сила, которая ускользает от нас, чтобы понять их тайну, и понимание, чтобы [это] одобрить. Популярный святой нашего времени, св. Серафим, изображения которого люди ставят в своих домах, был отшельником, который жил один в лесу, чтобы молиться».
Р. Рейнольдс в упомянутой книге еще разворачивает эти аргументы. Он с большой симпатией относится к России, которую называет «землей высоких идеалов», и пытается объяснить и защитить в глазах своих соплеменников русское представление о святости. «Русский человек понимает и почитает мужчину или женщину, которые теряют свою жизнь, чтобы приобрести ее». Преподобный Серафим, по его словам, представлял образец «духа самоотречения ради идеала». «Св. Серафим ушел из мира, чтобы жить одному в лесной чаще и молиться. Селяне, которые обнаружили его суровое жилище в конце XVIII в., нашли, что он мудр и что будет здравым следовать его совету. «Кто будет давать нам советы, когда тебя не будет?» – спросили они. «Приходите и прошепчите свои вопросы у меня на могилке, – ответил он, – и Бог ответит на них». И так он умер, не сделав ничего, что современный мир счел бы полезным. И тем не менее, его канонизация была встречена с энтузиазмом от края до края России, и богатые, и бедные поставили его иконы в своих домах. Народ следил с благожелательным интересом за долгим путешествием Николая II, царицы и их двора в северные леса, далеко от городов и железных дорог, где лежали кости старца. Обычный человек с улицы считал естественным, что монарх желает отдать дань уважения святости».
Рейнольдс проводит параллель с траппистами – католическим монашеским орденом молчальников. «Душа трапписта – запечатанная книга для среднего англичанина», «»В конце концов, – скажет англичанин, – нужно признать, что трапписты в Алжире делают полезную работу, сажая эвкалипты». Занятия лесонасаждениями не повысят ценность жизни затворника в оценке русского. Он почитает Серафима, потому что тот укротил плоть и научился говорить с Богом».
Похожие мысли звучат в книге известного энтузиаста-популяризатора России в Англии путешественника Стивена Грэма, долго жившего здесь и исходившего пешком многие регионы России. В своей книге «Путь Марфы и путь Марии», посвященной русской духовной культуре, он рассказывает о своем посещении Саровской пустыни в попытке глубже проникнуть в понятие «подвига». Не пересказывая полностью эту главу, где содержится много интересных и вдохновенных авторских наблюдений и впечатлений от этого посещения, скажем только о его мыслях, касающихся идеала святости как подвига на примере преподобного Серафима.
Грэм поражен способностью святого отстраниться от мира ради неба: «Он молчал все те тридцать пять лет, и затем отверз свои уста. Увы! Никто не мог сказать мне первые слова, которые он вымолвил. В самом деле, он молчал все то время, когда Наполеон опустошал Россию, во время, когда им была оккупирована священная матерь городов Русских, Москва. К этому времени Серафим уже приобрел репутацию великой святости».
Дальше он подробно представляет, как к преподобному приходили люди и рассказывали ему о новостях наполеоновского нашествия, но тот хранил молчание: «Его возведенные вверх глаза, казалось, созерцали неземное видение; его внимательные уши, казалось, слышали другие голоса Наполеон и мир были не в силах сокрушить его видение. Наполеоны могут приходить и уходить, но та истина, которой он был свидетель, оставалась неизменяющейся, неизменной».
Грэм рассказывает дальше о беседе преподобного Серафима с Н.А. Мотовиловым о Святом Духе и, после ослабления им его аскетических подвигов, о «теплоте его любви и сладости его советов».
Эти рассуждения авторов-русофилов раскрывают для английского читателя высоту менее близкого ему представления о святости, чем идея практической святости (в отдаленном смысле их можно соотнести с дихотомией «деяния» и «видения»).
Еще один пример их сопоставления, возможно, дает ироническая сентенция автора статьи «New Russian Saint» в Gloucester Citizen от 7 марта 1903 года, отмечающего, что отношение российского императора «к религиозным вопросам примечательным образом отличается от отношения кайзера, который находит проявления Божественной силы не в безвестных аскетах, но в своем деде и в королях и завоевателях прошедших веков».
Прокомментируем кратко и ту критику, которую высказывают в газетах английские католики. В статье «Русская канонизация» в газете «Catholic Times and Catholic Opinion» от 6 марта в полемике с приведенной выше цитатой о характерной российской прокрастинации отмечается, что канонизация происходит, напротив, довольно скоро после кончины святого с точки зрения католиков. Автор также находит странным ожидающийся на прославлении преподобного наплыв народа, но объясняет это особым почитанием в России святых и икон.
Мысли о слишком быстрой канонизации вторит статья в католической «Tablet» от 7 марта 1903 г., надменно противопоставляя ей «осмотрительность и медлительность» Рима в собственном «методе канонизации», где два столетия уже считаются довольно кратким сроком, и для католиков св. Пьер Фурье и св. Антонио Мария Дзаккария кажутся очень «современными». Также автор замечает, что новость о канонизации удивит большинство читателей, ибо в целом Западу не было известно, что «эта Церковь заявляла о праве на такую канонизацию или использовала его на практике».
Интересны и прорывающиеся национально-стереотипные оценки, которые в то время иногда пользуются расистской терминологией. После сравнения празднований в 1903 года с Индией автор статьи в «London Evening Standard» от 8 августа 1903 г. пускается в такие рассуждения: «но русские возражают против того, чтобы их причисляли к восточным [народам], хотя в Европе невозможно найти ничего такого же поистине восточного, как эта религиозная церемония», а «Лурд является параллелью только в плане историй его чудес, в то время как картины празднования и, главным образом, люди совершенно отличаются».
Отметим здесь и отзвуки того, что теперь принято называть колонизаторским дискурсом: для английского журналиста Индия в то время является синонимом неразвитости, варварства и вторичности, и эти же оттенки несет в себе сравнение автором с ней России. Не случайно также в публикации «Sphere» от 29 августа 1903 года вдруг появляется такой пассаж: «Саров был татарским городом, и весьма выраженный татарский вид нельзя не заметить на лицах крестьян… Он стоит на …одном из естественных укреплений, которые захватили татарские завоеватели России», – этноним татар в начале XX века в английском языке содержал те же коннотации, что и название Индии.
«Nottingham Evening Post» от 8 августа того года совершенно мимоходом пишет: «Помимо [сложного] нрава населения, есть и другие риски, неизбежно связанные с такими стечениями людей».
То, как работают в системе все три вида критики: политическая, церковная и национально- цивилизационная, – видно из следующей цитаты: «Православие и самодержавие, византийские анахронизмы, стоят перед угрозой смерти вместе, великолепные в своей отстраненности от современного мира» («Daily News» (Лондон) от 4 октября 1906 г.). Здесь затронуты и политическое устройство, и Церковь, и религиозная культура, и их общая «отсталость».
В завершение обзора этого критического тона в английской прессе будет уместно привести оценку В.В. Овчинникова, создателя жанра «психологического портрета зарубежного общества»: «Англичанам свойственно считать свой образ жизни неким эталоном, любое отклонение от которого означает сдвиг от цивилизации к варварству».
Эти психологические черты, по-видимому, наложились на описанную выше идею религиозного превосходства, проистекающую поначалу из чувства превосходства религиозных реформаторов по отношению к собственному «просвещаемому» народу, а затем к другим народам, в которых «все еще остались» «суеверия». В таком сочетании они помогают объяснить тот ракурс, с которого рассматривается англичанами ситуация в нашей стране и, в том числе, объяснить подоплеку тех оценок и стереотипов, которые демонстрирует собранный здесь газетный материал о прославлении преподобного Серафима Саровского.
В основе публикации –
статья иерея Серафима Алпатова
в «Сретенском сборнике»
(издание Сретенской духовной академии)