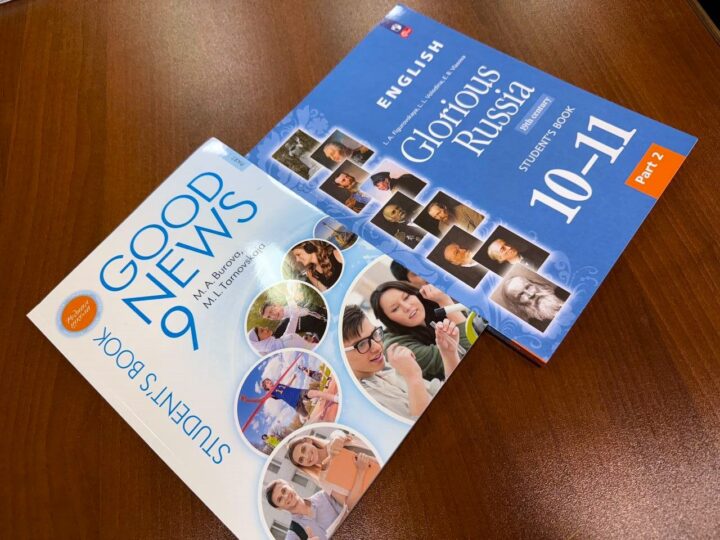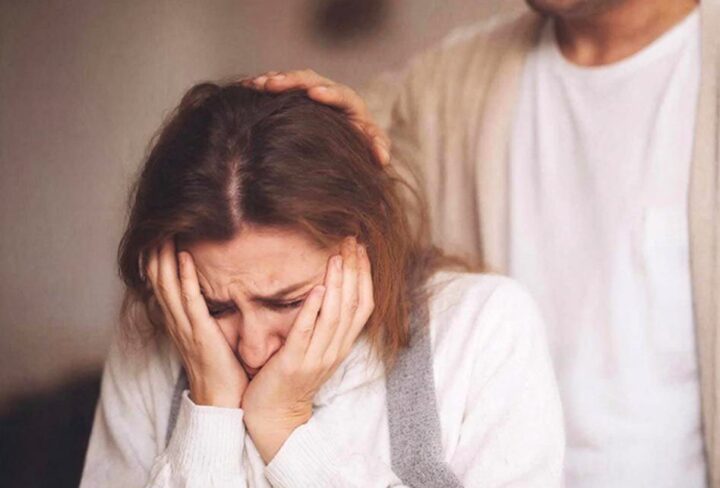Церковь Николая Чудотворца (также называемая Купеческая) в посёлке Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области – одна из тех немногих, которые были достроены и открылись уже после большевистского переворота 1917 года. История этого храма тесно связана с возникшим в Лебяжьем в конце XIX века автономным и компактно обустроенным поселением кронштадтских лоцманов. Сначала при здании лоцманского собрания появился домовый храм Николая Чудотворца. Когда к 1910-м годам появились планы возвести в Лебяжьем храм каменный, автором проекта в неорусском стиле выступил архитектор Василий Антонович Косяков. Последующее десятилетие оказалось для России тяжёлым, и строительство затянулось.
В 1931 году храм был закрыт большевистскими властями, а возвращён Русской Православной Церкви только в 1993 году. В нём до сих пор ведутся реставрационные работы, поэтому службы проходят в том самом домовом храме при здании лоцманского собрания, которое теперь тоже церковное. С начала нынешнего века настоятель храма – священник Александр Михеев. Стараниями отца Александра в Лебяжьем активизировалсь не только церковная, но и общественная жизнь. На службы в Никольский храм приезжают даже из Санкт-Петербурга.
Община также регулярно принимает у себя «особых» гостей – целые группы детей и взрослых с инвалидностью, в основном с ментальными нарушениями. Для отца Александра такое социальное служение естественно, ведь ещё будучи семинаристом, он начал посещать дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии, позже даже был штатным сотрудником этого учреждения. Вообще судя по рассказам отца Александра о приходской жизни в Лебяжьем, многое из того, что он делает в качестве настоятеля храма, коренится в его предыдущем жизненном опыте.
«Подумал, что попал в какой-то кошмар»
В Лебяжьем я стал служить сразу после окончания Духовной академии. Меня назначили настоятелем Никольского храма осенью 2002 года, указ об этом я получил как раз на Рождество Божьей Матери. Пока сюда не приехал, даже не знал, что здесь вообще что-то есть (улыбается). Тогда здесь была приграничная военизированная зона, что предполагало достаточно закрытую жизнь при общей разрухе и неустроенности. Сейчас, спустя больше двадцати лет, посёлок не узнать. А когда я приехал сюда из Петербурга, где родился и вырос, то подумал, что попал в какой-то кошмар (смеётся): людей мало, денег нет, что делать – непонятно.
В храм ходила горсточка старушек. То есть зачатки приходской жизни были, но, кроме самой службы, больше никаких церковных инициатив не было: люди приходили, писали записки, покупали свечки…

Как только я стал здесь служить, мы убрали из храма «прейскурант религиозных услуг» и стали ориентировать людей на более ответственную церковную жизнь. И половина этих бабушек перестала ходить в храм, а когда их спросили, почему, они ответили: «Теперь наш храм неправославный». Увы, некоторым даже такие не имеющие отношения к церковной традиции вещи кажутся чем-то незыблемым для Церкви. Я был очень удивлён. Конечно, я не ожидал, что эти бабушки кинутся мне на шею и начнут благодарить, но думал, что предложенный мной вариант для них самый удобный. Ведь было очень грустно смотреть, как приходит бабушка, открывает кошелёк, достаёт две бумажки по 50 рублей и думает: опустить их в кружку, отдать за свечку или на хлеб оставить. Так что мне казалось, они обрадуются, что пожертвования в храме перестали быть обязательными.
Ещё мы убрали «разнокалиберные» свечки. Потому что смешно выглядит: пришёл чиновник – купил большую свечу, рядом пенсионер покупает маленькую, и вот они стоят рядом, будто для Бога они тоже один выше, другой ниже. Мне казалось, что это профанировало саму идею особой ценности пред Богом каждого человека. Тем более, дело происходило в деревне, где и так людей немного. Ещё в городе это не так остро чувствуешь.
Где-то год были такие брожения – связанные и с нашими новшествами в храме, и с тем, что к нам стали приезжать ребята с инвалидностью. Кто-то вернулся, кто-то даже благодарил, кто-то ушёл безвозвратно. Но, естественно, никто этих людей не изгонял, наоборот, мы старались прежний приход сохранить, просто дать людям более зрелые понятия о церковной жизни. Для кого-то это оказалось непосильным.
Сейчас у нас на приходе молодёжь, люди зрелого возраста – и жители Лебяжьего, и дачники, и приезжие из ближних поселений, таких, например, как Сосновый Бор, Ломоносов, Петродворец, и совсем издалека. У нас в этом смысле очень пёстрый приход.
Чтобы не было ощущения «помолился – иди, откуда пришёл»
За воскресной литургией бывает 30-40 причастников, на Рождество и Пасху, может быть, чуть больше ста. Наверное, есть человек семьдесят, которые осознают себя прихожанами нашего храма, но не все бывают каждое воскресенье. Службы у нас совершаются, в основном, в домовом храме. Только молебны по субботам служим в каменном храме. Он ещё на глубокой реставрации, но понемногу мы там молимся. Реставрация движется медленно, но это лучше, чем совсем никак.

Почему к нам едут из других мест? Наша основная «целевая группа» – семьи с детьми. И порой получается, что родителям очень грустно прийти с ребёнком в какой-то большой собор, где не протолкнуться и ребёнка порой даже в туалет некуда сводить, где отсутствует какой-либо внебогослужебный контент. А приезд сюда – это полный выходной день: люди помолились, сходили на трапезу, погуляли, приняли участие в каких-то культурных мероприятиях. Кто совсем не торопится – можно остаться и шашлыки пожарить на природе, чтоб посидеть уже совсем частным образом. И хотя у некоторых храмы даже поблизости от дома есть, им не жалко потратить два часа на дорогу, чтобы провести в храме и рядом целый выходной, а не просто прийти на службу и уйти.

У нас проходят концерты хоровой и инструментальной музыки – когда в лектории, когда на улице. Большой уличный концерт у нас традиционно проходит на день Святой Троицы. На Покров и на Масленицу у нас уличные гулянья – дети катаются на лошадях, потом варим уху на костре. А так где-то раз в месяц стараемся какое-то яркое мероприятие проводить. Нам хочется, чтобы не было ощущения «помолился – иди, откуда пришёл». Даже не столь важно, что именно, важно, чтобы что-то происходило, чтобы было поменьше формальности.
Не то чтобы меня в прямом смысле учили этому в семинарии и академии. Но там мы говорили о том, что в исторической России у людей формально не было отпусков – люди отдыхали на Святках, на Светлой седмице. И праздники назывались неприсутственными днями. То есть люди не просто шли в храм и потом сидели дома, а это были именно праздники, продолжавшиеся целый день – и в городе, и в деревне. Праздник мог включать в себя и театральное представление, и выставку, и ярмарочные потехи, и камерный концерт в дворянской гостиной. Это было частью образа жизни.
Подобное сейчас можно увидеть в Сербии, в Греции. Там тоже православные люди, только не пострадавшие так сильно от советского ига, как мы. И подобное общение после богослужения там происходит вполне естественно: люди выходят из храма, пьют кофе, разговаривают, кто-то к кому-то идёт в гости, священник тоже в этом участвует. А у нас иногда читаешь новостную ленту на сайте какого-нибудь собора, а там, например, такая новость: «Настоятель встретился с прихожанами» (смеётся). Получается, то, что должно быть обычным делом, становится новостью, о которой можно даже написать заметку в ленту.
Думаю, такое общение не надо воспринимать как какое-то дополнение к церковной жизни. Суть Церкви – встреча со Христом. И эта встреча может быть в мистическом плане, то есть в богослужении, в таинствах, но может быть и вне этого опыта. А все эти мероприятия должны быть, как и мистическая сфера, частью жизни. Хотя и некорректно эти части между собой сравнивать.
Вспоминаю своё детство. Мы с мамой начинали ходить в храм – в Князь-Владимирский собор. Когда мне было пять лет, мы крестились. И с моих лет восьми-девяти иногда стали похаживать – не то что мы стали прихожанами, но в какие-то воскресные дни там бывали. Это были 1987 и 1988 годы. Речь у нас не шла о понимании службы, но было ощущение чего-то интересного, по-своему важного, ощущение необычного дня. А после службы мы шли в пышечную там рядышком. И это воспринималось чем-то единым! Не было никакого заманивания, не могу сказать, что я ходил в храм ради пышек. Это всё вместе было так органично, всё это было во имя Господа! День Господень, праздник, радость, настрой на всю неделю или даже на месяц.

И теперь в храм приходят люди разные. Думаю, не многие из них хорошо понимают и переживают само богослужение. Здесь наша пастырская задача – стараться делать так, чтобы люди глубже вникали в происходящее. Конечно, последующее мероприятие – не замена самой службы. Но если бы прихожанин мог службу переживать так же глубоко, как переживали её Иоанн Златоуст или Василий Великий, вероятно, можно было бы говорить о такой полноте, что человеку больше уже ничего не надо – пусть идёт с Богом домой и творит Иисусову молитву или проповедует. Но ведь в реальности у нас этого нет, поэтому многие выходят из храма с ощущением какой-то недосказанности.
Или представим, например, семью, где жена христианка, а муж неверующий. Жена вернётся домой со службы, и если муж спросит, что там было, она про службу едва ли сможет внятно рассказать, зато сможет сказать, что после службы священник и прихожане вместе пили чай, разговаривали, потом был концерт. Неверующий муж в следующий раз может прийти на тот же концерт – это уже шаг. И семья в это время будет вместе. Есть люди, которые не ходят на богослужения, но ходят на концерты. Мы не стыдим их.
Помню, одна пожилая дама ходила на наши концерты, а потом как-то подошла ко мне и сказала: «Батюшка, Вы только не обижайтесь! Мне нравится ходить на концерты, а на службу я не готова ходить – не потому, что мне что-то там не нравится, просто нас так не воспитывали». Нельзя, конечно, сказать, что это правильный подход, но в этом есть очень доверительное отношение к нам. И мы не стараемся прямо-таки затащить в храм – у человека свой путь, если Господь захочет, то приведёт его. А так пусть дама ходит хотя бы на концерты и у неё о Церкви складывается светлое впечатление.
Видя таких людей, мы, конечно, думаем о том, как было бы здорово, если бы мы с ними вместе молились и могли сказать друг другу: «Христос посреди нас!», а не просто посидеть рядом на концерте. Но ведь нет какой-то технологии, чтоб можно было сказать: «Я хочу, и завтра так будет». А так люди находят здесь что-то для себя созвучное – это уже радостно.

И нас, членов общины, это поддерживает. Ведь иногда ты в силах, как сейчас модно говорить, в ресурсе, а иногда, наоборот, возникают мысли: «Нужно ли это всё?» А когда видишь этих благодарных людей, думаешь: «Нет, всё-таки нужно». Это даёт силы дальше жить и служить.
«Особые» гости
Уже с 2003 года к нам стали приезжать ребята из Дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии №1, который находится в Петергофе, позже – и из других подобных учреждений для детей и взрослых. Первыми волонтёрами были члены клуба велосипедистов, искавшие духовной поддержки.
Когда «особые» ребята только начали приезжать в Лебяжье, у нас возникла проблема. Ребята, естественно, приходили и на богослужения. И некоторым нашим прихожанам было трудно принять их из-за их необычного вида и поведения. Кое-кто даже написал на меня митрополиту жалобу приблизительно такого содержания: «У нас жизнь очень трудная, и мы приходим в храм, чтобы от этой трудной жизни немножко отдохнуть. А когда мы видим в храме инвалидов, это нас напрягает, поэтому уберите их» (смеётся).
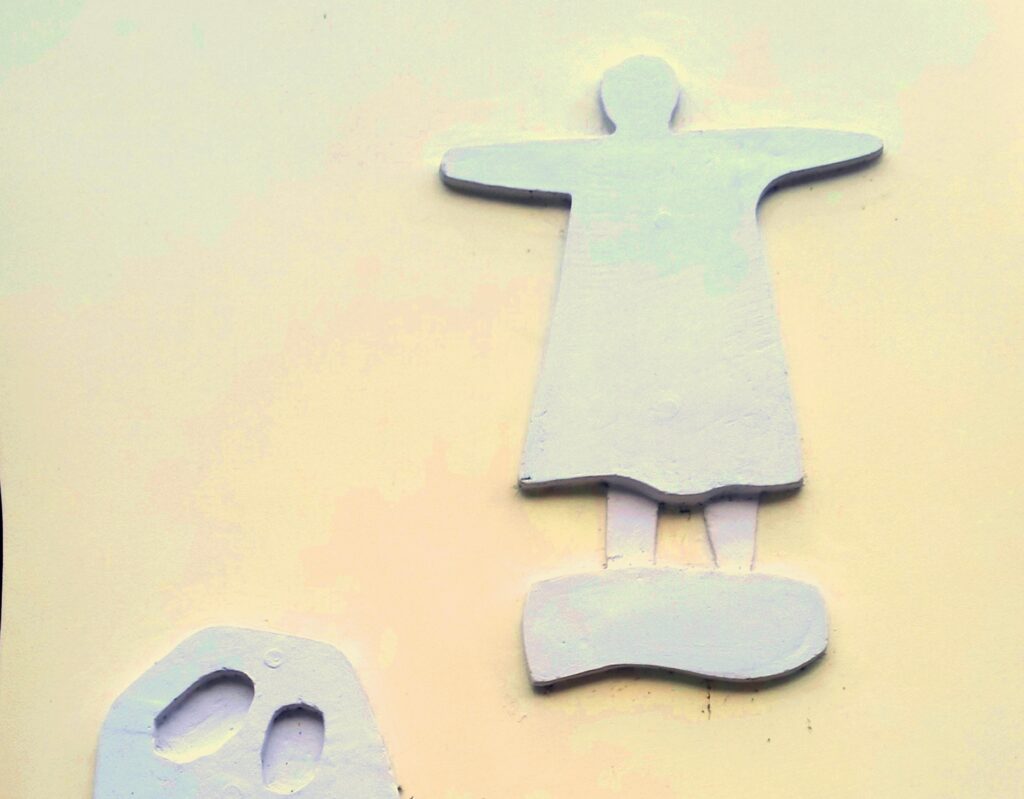
Я был вызван на приём к нашему тогдашнему митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Владимиру. И привёз на эту встречу фотографии. Владыка посмотрел, успокоился и сказал: «Это очень хорошо, что Вы таким людям помогаете! Я тоже думал об этом, но я человек очень впечатлительный и когда вижу таких людей, начинаю очень за них переживать – у меня поднимается давление, так что не могу и о текущих делах думать. Поэтому сам я к этим людям стараюсь не приближаться. Но если у Вас получается с ними взаимодействовать, я за Вас рад и благословляю».
Мы начинали с летних смен, потом стали делать зимние, осенние и весенние. Самым показательным у нас был 2019 год: мы провели больше двадцати смен. Приезжали «особые» ребята из Петергофа, из Карелии, из Вологодской, Новгородской, Псковской областей. Псковские ребята впервые в жизни море увидели – их детский дом находится в лесу, и они не представляли, что такое может быть, что можно смотреть вдаль и воде не видно конца. Вроде не сказать, что мы для них что-то великое сделали – на службах они побывали, в Кронштадт с нами съездили, но у них осталось ощущение, что произошло что-то грандиозное.

Правда, за время пандемии у нас всё вернулось к тому, что было изначально. Ведь ребята не приезжали, сотрудники уволились, волонтёры нашли себя в других делах. И сейчас у нас снова период становления. Раньше к нам приезжали ребята с не очень тяжёлыми нарушениями, и мы называли наши встречи духовно-нравственной поддержкой. Теперь приезжают ребята послабее, и наш проект уже не столько образовательный, сколько более сосредоточенный на милосердии, то есть это, скорее, санаторий, а не школа.
Обычно у нас по вечерам проходят беседы у камина. Мы знакомимся. Я слушаю, как ребята сами говорят о себе – что они любят, чем занимаются. И потом, соотносясь с их возможностями, я рассказываю им, что такое Церковь, зачем люди ходят в храм. Говорю о том, что даже неверующему человеку надо окультуривать свой внутренний мир – нельзя просто работать, есть и спать, считая, что этого достаточно. Кто-то задаёт вопросы – и сами ребята, и их сопровождающие. Наши беседы – это общение, а не лекции.

За раз мы можем принять до двадцати людей с инвалидностью вместе с сопровождающими, но даже это многовато, и так мы делаем только в особых случаях. Оптимально, если на несколько дней приезжает двенадцать ребят с сопровождающими. Сопровождающие плюс те, кто проводит с ребятами специальные занятия (например, по озеленению), – это обычно ещё столько же человек, так что в целом у нас получается принять 24-25 человек. У нас есть две гостевых комнаты – по восемь мест в каждой. И в каждую селятся шесть подопечных и двое волонтёров. Плюс есть гостевые комнаты для привлечённых специалистов.
Проект «обретая свет»
В этом году у нас появилась неожиданная, но приятная поддержка со стороны Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей инвалидов (ГАООРДИ). На конкурсе «Православная инициатива» она получила грант на духовно-просветительский проект «Обретая свет» для выпускников домов социального обслуживания (так теперь называются интернаты).

Идею проекта мы предварительно обговаривали с президентом ГАООРДИ Маргаритой Алексеевной Урманчеевой. И она предложила формат краткосрочных заездов с четверга по воскресенье, чтобы ребятам было комфортно сочетать их с трудовой деятельностью. Формат оказался интересный, и я думаю его практиковать и в будущем.

Это творческий процесс – найти золотую середину, чтоб и ребятам было полезно, и нам посильно. А выезд на выходные плюс два-три дня – это всё-таки проще в плане организации, чем двухнедельная смена. И волонтёров найти проще. Например, у человека отпуск – далеко не каждый готов половину его потратить на служение «особым» людям. А если речь идёт о пяти днях, то шансов найти волонтёра уже больше.

Вот в прошлом году мы сами смогли организовать только две летние смены для ребят из Дома социального обслуживания №1, а в этом году у нас получилось, кроме этих смен, сделать ещё четыре заезда для подопечных ГАООРДИ.
Формирование внутреннего человека
Думаю, выпускникам интернатов соприкосновение с церковной жизнью, с православной культурой даёт, прежде всего, личностный ориентир. В тех же детских домах-интернатах людей, как правило, приучают к работе, как-то организовывают их досуг. Это хорошо, но дальше что? Что должно стать содержанием жизни человека? Вот вышел человек из интерната, получил жильё, устроился на работу, работает пять дней в неделю, а в выходные, например, водку пьёт. Но тогда и его трудовые навыки обесцениваются.
Для людей с особенностями развития, как и для остальных людей, главное, чтобы в их жизни была связь с Богом, с вечностью. А всё остальное – то, что обеспечивает их временные потребности. Если не будет формироваться, как пишет апостол Павел, «внутренний человек», какой смысл в этих навыках?

На практике и видно: ребят, которые немного это почувствовали, и для них важно в воскресный день помолиться, причаститься, ощущать себя частью церковной общины, это поддерживает. Некоторые рассказывают, что в выходные не болтаются где-то, а ходят в храм и даже кому-то помогают. И так радостно за этих людей! Они ведь не напоказ это делают – им самим это нужно. Если и община приходская такого человека принимает – совсем хорошо. Всё-таки в Церкви преодолеваются интеллектуальные, социальные, барьеры между людьми – и это не заслуга, например, священников, а дар Божий. Церковь – новый народ, который призван Богом не по национальному, не по имущественному, не по интеллектуальному принципу, в силу дара быть учениками Господа. Любому человеку это в жизни много даёт, а «особому» человеку – особенно много.
Что понимать под пониманием?
Иногда возникает вопрос, глубоко ли «особые» ребята осознают происходящее в храме и вообще вероучение. Но что понимать под пониманием? Можно с человеком просидеть за чаем и проговорить часа три, а можно просто взять его за руку и посидеть в тишине – где вы лучше друг друга поймёте? Или, например, есть два друга. Как измерить их отношения? Если им вместе хорошо, значит, это дружба.
У «особых» ребят познание происходит как-то по-другому. Но ведь и младенцев мы крестим, хотя они в обычном смысле не понимают, что происходит. А потом дети ходят в храм, и про них можно сказать: важно не то, чтоб они понимали, важно, чтоб им нравилось. И если ребёнку нравится, это можно назвать успехом. Это не пренебрежение разумом, это просто другой способ познания.
И с нашими «особыми» подопечными похожая история. Мы не заставляем их, например, зубрить молитвы, это было бы абсурдом. Но им говоришь: «Ребята, завтра в храме будет служба. Кто не хочет – пожалуйста, спите, рисуйте, делайте ещё что-то». Но они почти все очень искренне хотят пойти и идут. Редко кто отказывается. Если бы им это было чуждо, они бы так себя не вели. И мы не тестируем, кто сколько понял.
Ребята, как правило, не могут многое внятно сформулировать. Но у них появляется чувство вечности, они могут пережить и покаянное чувство – понять, что они не во всём правы, что хотят стать лучше. А мы делимся с ними тем, к чему сами ощущаем некую причастность и сами для себя считаем полезным.
Волонтёры – прихожане и гости
Когда «особые» люди приезжают к нам, взаимодействовать с ними мне помогают некоторые прихожане храма. А ещё мы приглашаем волонтёров – молодых людей, как правило, студентов. Среди них есть люди и нецерковные, и неверующие, но готовые посвятить своё время и внимание нашим подопечным. И для таких молодых людей это становится интересным положительным опытом. Неверующие люди принимают участие в церковных проектах и, видя, что у нас нет никакого религиозного фанатизма, начинают и в целом к Церкви более лояльно относиться.

Но большинство прихожан в этом плане пока не очень активно. Многие относятся очень дружелюбно к этим ребятам, но дальше этого не идут – скорее, присматриваются. Это одна из трудностей, которую мы не можем преодолеть. Я точно знаю, что это не из-за гордости или чего-то такого. Людям почему-то не сделать первый шаг. Хотя если о чём-то попросить, они откликаются, но сами помощь не предлагают.
Мне кажется, это из-за того, что большинство из них выросли в советское или ближайшее постсоветское время, когда людей с инвалидностью крайне редко можно было встретить в общественных местах. Помню, когда я сам впервые пришёл в дом-интернат для детей с умственной отсталостью, у меня был шок – в том числе и потому, что увидел сразу много таких необычных людей.
Записал Игорь ЛУНЁВ
Фото автора,
со страницы прихода в сети «ВКонтакте»
и с сайта ГАООРДИ